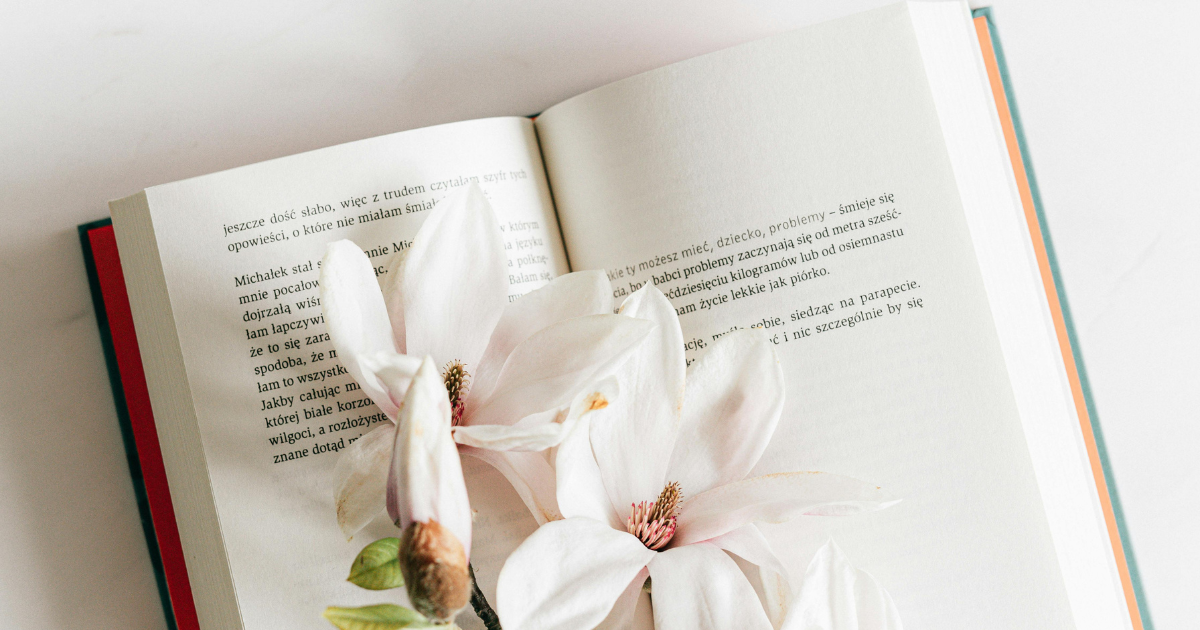Голоса, отредактированные для удобства
Как работает насильственная адаптация в переводе и почему даже самые тонкие смыслы легко теряются на пути к западному читателю

Мир переводов, кажется, устроен не по горизонтали, а, скорее, по вертикали, по лестнице. И на ее верхних ступенях почти всегда – тексты, написанные на английском. Англоязычная литература переводится десятками стран, обсуждается, читается, разбирается. Голоса с окраин же наоборот. Их, прежде чем услышать, часто вынуждают пройти через процедуру «адаптации»: упростить, объяснить, сделать понятнее. Как будто бы ценность их опыта и взглядов напрямую зависит от способности понравиться главному, универсальному читателю – тому самому, кто живет на западе.
Иерархия языков
Если представить себе мир текстов как глобальный рынок, то английский здесь словно единственная полноценная валюта. На него переводят с любых языков, но с него далеко не на каждый. Именно английский чаще всего становится тем универсальным «языком доступа», через который проходит идея, прежде чем добраться до международной аудитории. И именно на английском чаще всего пишут, даже если авторы живут в самых разных регионах мира.
Но есть и обратная сторона. Чтобы попасть в англоязычное пространство, авторы с «периферии» сталкиваются с требованиями: быть понятными и писать проще. Исключить культурные реалии, которые могут быть незнакомыми. Объяснить контекст, иногда настолько подробно, что сам текст превращается в сопровождение к своему объяснению.
Это, по сути, и есть насильственная адаптация, когда стиль, язык, образность автора корректируются не для точности, а для удобства. Когда сложность становится привилегией «центра», а ясность – обязанностью «окраины».
Так возникают ситуации, в которых украинские, арабские, китайские, русские и узбекские тексты переписываются так, чтобы «не пугать» западного читателя.
Культурные реалии
В работе с культурно-специфичными реалиями чаще всего используют три приема: заменить, вырезать или вставить пояснение. Эти жесты давно стали привычными в практике перевода, особенно когда речь идет о художественной литературе. Текст начинает немного сглаживаться, теряя собственные интонации.
Первый прием – заменить. Например, «базар» становится market, «богатырь» – hero, а «дворянин» – nobleman. Казалось бы, все понятно. Но при этом теряется звучание, контекст, культурный слой. Превращая «бабушку в платке» в an old lady, мы теряем ритм, запах, воздух этой сцены.
Второй прием – вырезать. Особенно часто он применяется к темам еды, предметов быта, локальным деталям. Щи заменяются на «суп», самовар – на «чай», а борщ и вовсе исчезает. И это кажется мелочью. Но из таких мелочей и складывается культурный код. Без них история становится более гладкой, но менее живой.
Третий прием – вставить. То есть попытаться объяснить. Иногда прямо в тексте, иногда в сноске, иногда в беззвучной правке переводчика, который берет на себя роль соавтора. Этот метод вроде бы самый деликатный, но и он не безобиден. Потому что каждое объяснение – это акт перераспределения власти: читателю доверяют больше, чем автору. Автора нужно уточнить, читателя – уберечь от недоумения.
Риторика уступки
Перевод – это всегда выбор. Но когда выбор предопределен, кажется, это уже не акт понимания, а акт подчинения. С каждым уточнением, заменой, пояснением текст теряет что-то неуловимое: интонацию, ритм, а главное – право звучать так, как он задуман.
Чтобы вернуть голос тем, кого привыкли править, возможно стоит научиться слышать сложное, неотредактированное, непривычное. Не бояться непонятного и позволить текстам звучать на своих частотах, даже если они неидеально вписываются в чужую шкалу. Ведь настоящая универсальность про то, что все могут быть разными и услышанными.