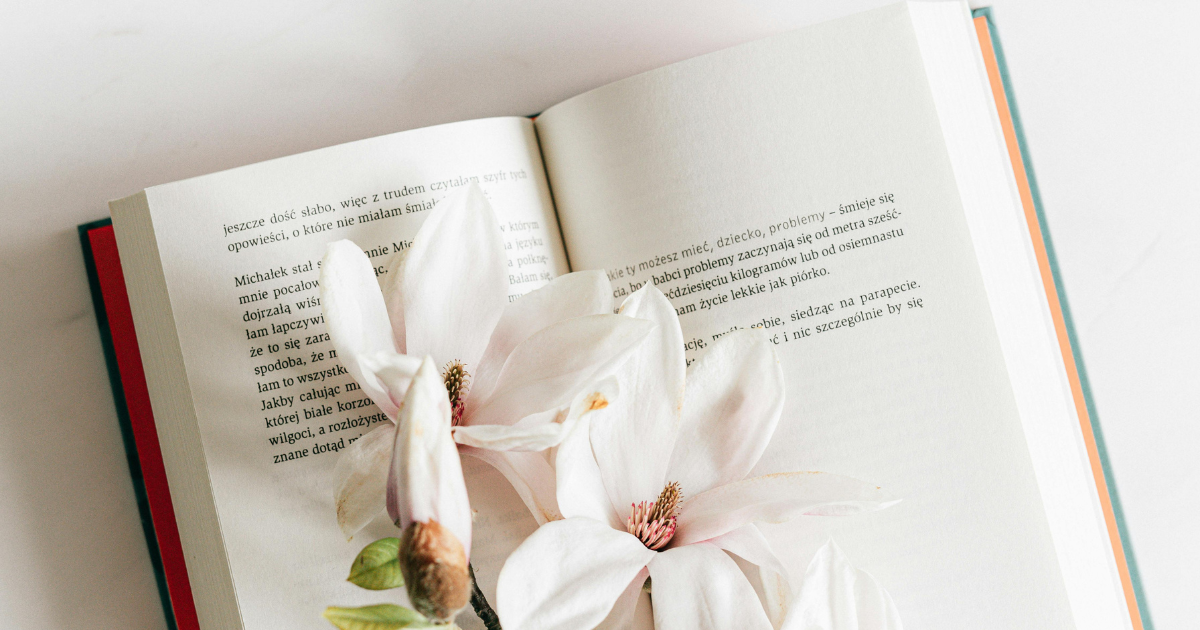Последнее лето Европы: как художники, поэты и музыканты чувствовали приближение бури
Они жили, будто бы завтра не случится. Писали, рисовали, сочиняли, влюблялись. И все это – уже изнутри распада.

При упоминании 1913 года в памяти возникают образы рассветной Европы, еще не знавшей ужаса войны, но уже внутренне тронутой ее дыханием. В этом году, по легенде, в венском районе Леопольдштадт могли случайно пройти мимо друг друга Фрейд, Сталин, Гитлер и Троцкий. Они еще не знали, кем станут. Никто не знал. Но художники, поэты и композиторы – чувствовали.
Они ощущали надвигающийся надлом – не политический, а метафизический. В мире, полном надежды и электричества, искусства и инженерии, начинало звучать нечто тревожное. Их кисти, партитуры, тексты и письма говорили громче политиков: что-то заканчивается. Что-то ломается. Что-то рождается – неведомое и страшное.
Искусство, оторванное от земли: Малевич, Шиле, Пикассо
1913 год стал преддверием новой живописной реальности. Казимир Малевич, еще до своего знаменитого "Черного квадрата", пишет работу "Авиатор" – фигура, буквально вырванная из земного пространства. Она падает – или висит между небом и полом. Словно человек, потерявший опору. Через год Малевич даст миру супрематизм – искусство, не нуждающееся в объекте, в природе, в логике. Его картины больше не иллюстрируют реальность, они заменяют ее собой.

источник: Russian Museum
Эгон Шиле в это же время создает портреты, полные обнаженной болезненности. Его герои – это его же внутренние страхи. Линии рвутся, цвет тускнеет, лица словно испачканы пеплом. Его "Семья" (1913) выглядит как манифест обреченности, как предсмертная фотография мира, где уже нет жизни, а есть только попытка ее имитировать.

источник: Belvedere Gallery
Пабло Пикассо в этот же период погружается в аналитический кубизм. Он режет предметы, лица и тела на геометрические фрагменты, отказываясь от понятной зрителю логики изображения. Его картины становятся головоломкой, которую нельзя собрать. Потому что реальность больше не поддается сборке. И он это чувствует.
"Я не ищу, я нахожу", – говорит Пикассо. Но найденное все чаще оказывается тревожным.
Слово как предчувствие: Кафка, Рильке, Музиль
На первый взгляд это были тихие литературные годы. Но именно в 1913 году Франц Кафка пишет "Превращение". Проснувшись однажды утром, Грегор Замза обнаружил, что стал насекомым. И все как будто нормально. Семья сначала удивлена, потом раздражена, потом – равнодушна. Это история о вычеркивании. О том, как мир больше не признает тебя своим.
Фон в этом рассказе – бюргерская Прага, страховая контора, домашний быт. Но тревога – космическая. Кафка будто первым почувствовал: бюрократия сильнее морали, форма важнее сути, человек больше не субъект, а ошибка в системе.
"Только в своих книгах я могу дышать", – писал Кафка в письмах к Фелицие Бауэр.
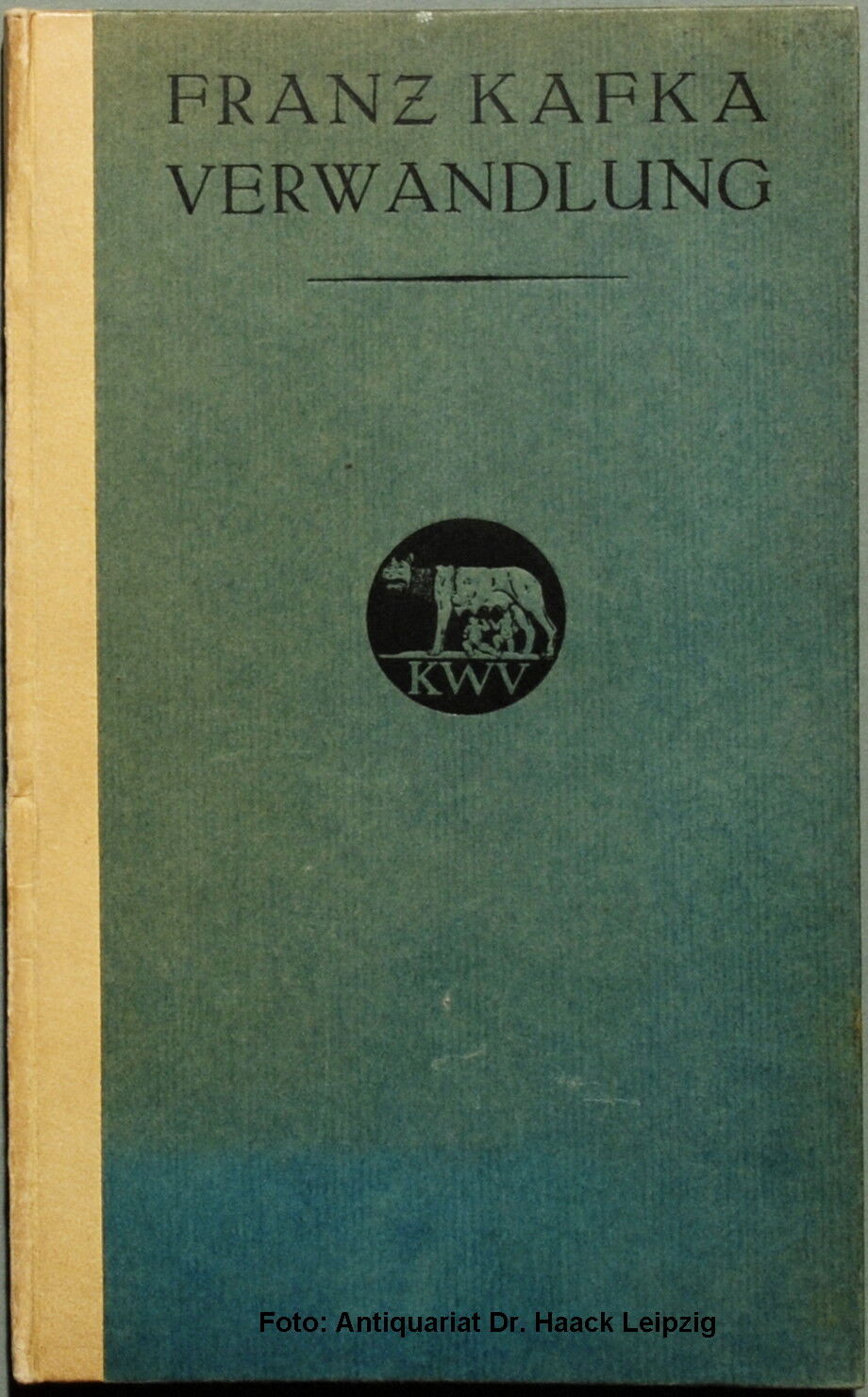
источник: Antiquariat Dr. Haack Leipzig
В это же время Райнер Мария Рильке пишет "Дуинские элегии" – десять текстов, в которых человек пытается поговорить с ангелом. Но ангел молчит. Или говорит на непонятном языке. Элегии полны боли, света, попытки найти смысл в бессмысленном. Его стихи – об утрате горизонта. Художник больше не посредник между небом и землей – он один в пустоте.
Роберт Музиль, начавший писать "Человека без свойств", создает роман, в котором главный герой – никто. Ульрих – это европейский разум без опоры, человек в обществе, где все смыслы стали декоративными. Империя Австро-Венгрии еще жива, но уже прогнила – и именно Музиль, холодно и остро, начинает ее вскрывать.
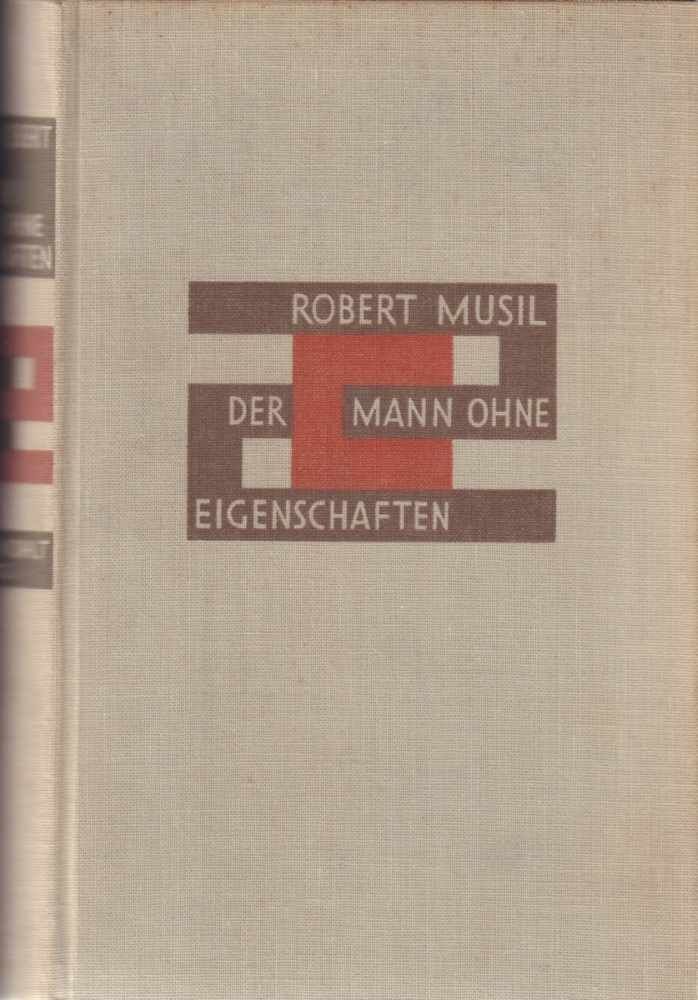
источник: Rowohlt Verlag
Музыка на обрыве: Шенберг, Стравинский, Малер
1913 год – это год музыкальной революции, за которой пришла какофония мира. В марте в Париже прозвучала премьера "Весны священной" Игоря Стравинского. Люди покидали зал, спорили, дрались, свистели. Все потому, что привычная музыка умерла. Композитор создавал звуковую стихию: резкие акценты, ритмы, напоминающие удары сердца в панике. В этой музыке уже не было Европы. Было что-то языческое, древнее, страшное – как если бы прошлое воскресло, чтобы разрушить настоящее.
Арнольд Шенберг тем временем окончательно отказывается от тональности. Он создает додекафонию – систему из 12 звуков, где ни один не может быть центром. Эта музыка – как архитектура без фундамента. Шенберг сам боится числа “13”, называет оперу "Моисей и Арон" без одной буквы – чтобы было 12. Но погибнет в пятницу 13-го.
"Гармония – это условность. Истина – в свободе", – обмолвился как-то Шенберг.
Музыка перестает быть утешением. Она больше не "успокаивает душу". Она говорит: “Душа рассыпается, и это нормально”.
Вена – столица будущего кошмара
Вена в 1913 году – культурный вулкан. Здесь в одних и тех же кафе пьют кофе революционеры, поэты, диктаторы и философы. На Мельдерманнштрассе – бедный злобный художник по имени Адольф Гитлер. В редакции "Правды" – молодой Лев Троцкий. В уютной квартире на Берггассе, 19 принимает пациентов доктор Зигмунд Фрейд. Рядом – будущий маршал Тито, автомеханик. Они еще не знают, что изменят XX век. Но они уже настроены на одну волну.
Кафе Central – главный нервный узел. Тут обсуждают Ницше и шахматы, спорят о поэзии и цене на хлеб. Здесь же Альма Малер. Мать, муза, художница, чья жизнь переплелась с судьбами Малера, Кокошки, Верфеля. Она символ новой женской фигуры: страстной, независимой, способной влиять на культуру, а не только вдохновлять ее.
Фрейд же закладывает основы новой религии – психоанализа. Его идеи проникают в искусство. Отныне реальность не объясняется разумом. А сны, детство, страхи становятся главными ключами к пониманию человека.
"Где Оно, там должно стать Я", – пишет Фрейд. Но в 1913 году кажется, что "Оно" побеждает.
Мир, который делает вид, что живет
Все это происходит на фоне кажущегося благополучия. В Европе изобретают кино, строят поезда, обсуждают теорию относительности. Появляются первые магазины prêt-à-porter, первые телефоны, первые автомобили среднего класса. Люди уверены: война – это вчера. Сегодня – это вечный рост.
Политик Норман Энджел выпускает книгу "Великая иллюзия": войны невозможны, потому что невыгодны. В 1913 году она становится бестселлером. В это время Шпенглер уже пишет "Закат Европы", но его никто не читает. Потому что никто не хочет смотреть вниз.
"Все идет прекрасно", – говорят они. И именно в этот момент рвется ткань века. Искусство было первым, кто услышал треск.
1913 год был не преддверием войны. Он был преддверием нового сознания. Люди еще жили по-старому, но чувствовали: так больше нельзя. Художники, поэты и музыканты ощущали этот год как жжение под кожей.
Они рисовали, писали, сочиняли – будто прощались. С миром, где еще есть структура, граница, ясность. Они предчувствовали хаос, но не боялись его. Они встретили его с искусством в руках.
"Только искусство может пережить катастрофу, потому что оно было первым, кто ее назвал". И, может быть, именно в этом – его величие.